Редимейд и ремесленный текстиль Вацы выставляется по всей стране – от родного «Терминала А» до столичной галереи «Триумф». Она ищет (и, как ни странно, находит!) баланс между модой и искусством, красотой и абсурдом, сакральным и утилитарным. Нижегородская художница – о скрытых смыслах вафельных полотенец, фэшене в Лапшихе и кавайном платье из пододеяльника с японским провенансом.
Вы занимаетесь текстилем, вышивкой – формально все это относится к миру одежды, а значит и моды. Кем вы сами себя считаете – художником или модным дизайнером?
Я на сто процентов художник, к моде имею косвенное отношение. К тому же часто текстиль у меня – это не одежда, а бытовые объекты – скатерти, прихватки. В выставочном пространстве они работают как арт-объекты, но я всегда говорю людям, которые их покупают: вы можете ими пользоваться, поставить на эту прихватку сковородку.
Как у Пушкина: «печной горшок тебе дороже». Тогда где же разница между искусством и жизнью?
Разница, конечно, есть, но мне кажется, что предметы могут постоянно курсировать: утилитарная вещь может стать объектом искусства и наоборот. Любопытный процесс.
Теперь ваша цитата: «Если взять принты с вафельных ивановских полотенец, то из них получится портрет России», – написали вы в соцсетях. У вас есть задача его нарисовать?
Задачи такой нет, мне просто интересно наблюдать за современной российской жизнью и выцеплять из нее неочевидные фрагменты. У меня действительно есть работа, в которой я объединяла ивановские принты, но в ней нет ничего авторского: просто съездила в Иваново, привезла тюк полотенец и объединила.
Но в самом моменте отбора, в том, как вы их объединили, и присутствует авторская позиция.
Не то что я старалась быть объективной, но пыталась классифицировать эти принты, как говорится, осветить весь ассортимент.
Что же вы узнали про наших людей в процессе работы?
Наверное, ничего нового. Мы любим все яркое, красивое, но в условиях нашего сложного периода (а легких у нас не бывает) пытаемся найти отраду в повседневности: мир вокруг рушится, зато у меня дома красивое полотенце с котиком, оно меня радует, и жить становится чуть-чуть легче. Если брать традиционный народный текстиль, там та же история: жизнь серая и безрадостная, зато в доме вышитые рушники. Конечно, все эти изделия выполняли и обрядовые функции, но, кроме этого, давали глазу отдохнуть.
Действительно, народные вышивки, принты уходят в мифологию, в коллективное бессознательное, но вы-то используете не древние архетипы, а образы массовой культуры.
Потому что жизнь меняется: раньше человек жил в мифологическом мире, теперь же он смотрит телевизор, а на Вайбер ему приходят мемные открытки. Но при этом одежда и текстиль не потеряли функцию коммуникации: то, во что мы одеты, рассказывает про наше социальное положение, отношение к действительности и про то, как мы хотим, чтобы к нам обращались люди. Мне важно сохранить у текстиля эту способность разговаривать, просто говорит он уже не на языке мифологических символов, а на каком-то другом.
То есть, по-вашему, мы полностью секуляризированы, не зависим от древних символов?
Зависим, просто они по-другому себя проявляют. Господь может говорить с нами через что угодно: мы можем пойти в церковь или в лес и найти Его там, а может, сегодня Он проявит себя в том, какое объявление вам попадется на глаза. Меняется наша коммуникация с потусторонним, и Ему тоже приходится находить к нам другие подходы.
Вы задеваете тему сакрального, то есть по нынешним временам ходите по скользкому льду: то у вас телеведущий Гордон представлен в виде Николая Чудотворца, то сам Спаситель в виде забавного коллажа. Это продолжение средневековой народной смеховой культуры или реакция на современную ситуацию в обществе?
Это вообще не насмешка. Я смеюсь от чувства искренней веры, шучу от любви к религиозному сознанию, от ощущения его необходимости: у тебя все хорошо только тогда, когда это сознание присутствует, так жить легче. Возможно, какие-то конвенциональные церковные связи с божественным не всегда мне подходят. Как я уже сказала, оно может проявить себя как угодно: сообщение из телевизора, вырванное из контекста, может стать для тебя посланием.
Не было желания поработать с традиционными техниками, древними символами, чтобы ощутить их энергетику?
Это, конечно, интересно, но я опасаюсь в процессе работы сильно наврать: надо полностью погрузиться в тему, подойти к ней по-научному, быть серьезным. Я участвовала в творческой лаборатории народных художественных промыслов – делала работу, посвященную шахунскому ткачеству. На строчевышивальной фабрике в Шахунье мне рассказали, что долгое время они старались соблюдали ткацкие традиции, правильно использовать все узоры, но люди их просто не считывают – покупатели просили соединить фрагменты из разных орнаментов, нарушив каноны. Ткачихи были бы рады делать все как в старину, но это не будет иметь спроса.
Вы сейчас в черной майке и шортах – привычная униформа современных художников. Это ваш обычный аутфит?
Нет, просто сейчас иду в мастерскую работать над проектом. Когда не надо пачкаться, я выбираю одежду, которая что-то говорит. Мне нравится история про платье, в котором я была на последней выставке «Контур»: в секонде нашла пододеяльник, сшила из него платье, а потом провела расследование, пыталась найти его провенанс.
Провенанс пододеяльника? Можно поподробнее.
На нем был принт, похожий на аниме – а я в этой культуре не очень разбираюсь. Но там был копирайт, поэтому стала гуглить и выяснила, что принадлежит он немецкой прокатной компании. Оказалось, что в конце XIX века швейцарская писательница Йоханна Спири написала детскую книжку «Хайди», и она была очень популярна в немецкоязычной Европе. В 70-е эту книжку экранизировали японцы, а потом немцы выкупили у них права, сделали мерч, в том числе и мой пододеяльник, а потом еще и сняли собственную адаптацию японского мультика.
Я, кстати, пытался найти провенанс вашего творчества и вышел на Тимура Новикова, который в 90-е занимался авангардным текстилем, а его работы уходят в советский текстиль 20-х.
Тимура я очень люблю, у меня есть несколько работ, которые стали оммажем ему. Для одной из выставок проекта «Небесная канцелярия» я сшила платье по принципу авангардного текстиля – и по качеству, и по стилистике было похоже. Не то что я чувствую продолжателем той традиции, просто держу в голове то, что было до меня, и пытаюсь до него дотянуться.
То есть вы все-таки упорно заходите на территорию моды.
Получается, что да. Сейчас я готовлю проект «Модный дом Вацлава» в Екатеринбурге, в котором будет представлена только одежда. Мне предложили сделать выставку в боксе торгового центра – тогда я и решила сделать магазин одежды, нашить для него платьев. Я пытаюсь воссоздать стиль универсама «Нагорный» на Советской площади: в нулевые там был вещевой рынок, который теперь закрыт, но та мода никуда не делась. Так, например, одеваются женщины в Лапшихе, где я живу, – яркие принты, неожиданные сочетания. Это кажется на первый взгляд странным, но когда начинаешь вглядываться, искать внутри какое-нибудь высказывание, видишь много интересного.
В этом есть ирония?
Я пытаюсь никого не обижать, потому что это моя среда, я в ней живу. Это эстетика, которая меня воспитала. Я стараюсь смотреть на нее непредвзято, видеть в ней смешные моменты, но и серьезные тоже.
Возвращаем работы Вацы в аутентичный ландшафт, из которого они возникли. Натура – антуражный дом, словно из детских воспоминаний о каникулах у бабушки. Аутфит – концептуальный мэтч работ самой художницы и авторской одежды Vereja дизайнера Игоря Андреева. Безыскусный деревенский уют настолько поглощает героиню, что она сама будто становится частью вышивок и узоров.
Текст: Сергей Костенко
Арт-директор, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Фото: Диана Филатова
Ретушь: Юлия Волынова
Дизайнер: Игорь Андреев
Стиль: Алена Сударикова
Одежда: VEREJA, DINOSKNIT, айтемы из винтажного магазина «Сундук»
Продюсер: Яна Угленкова
Благодарим Анну Нистратову за доброе сердце, помощь в организации съемки и гостеприимство (ее дом стал нашей лучшей локацией для фото).
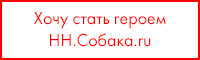











Комментарии (0)