Профессор и заведующий кафедрой прикладной математики СПбГУ Николай Кузнецов — феномен не только российской, но и мировой математики. Он не только обучает студентов исследовать и развивать искусственный интеллект, но и решает задачи, над которыми его коллеги бились десятки лет — гипотеза Идена, проблема Игана. Он доказывает существование явлений, которые ранее считались невозможными — например, скрытые колебания в цепи Чуа.
Более того, ученый переводит на язык математики такие сферы, как экономика и даже психология. Кузнецов — наравне с нобелевскими лауреатами — регулярно включается в списки самых популярных среди коллег исследователей мира. По версии Web of Science он входит в топ-0,1 % наиболее цитируемых ученых планеты. В 2025 году математик стал лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь».
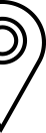 | Николай сфотографирован в «Лахта Центре» (самый северный небоскреб в мире, самое высокое здание России и Европы!) — у планетария, напоминающего огромный серебряный шар. Вместимость зала планетария, который скоро откроется для посетителей, — до 100 человек. |
Алиса в стране ИИ
Пока все говорят об ИИ, вы учите его создавать. Скажите честно, какие чувства вы испытали, когда впервые увидели возможности нейросетей?
Удивил ли вас, скажем, ChatGPT? Я не был удивлен, поскольку увидел закономерный итог развития науки. Ведь ChatGPT базируется на понятных математических принципах, все остальное — это лишь удобная реализация.
Что это за принципы? Можно ли их объяснить простыми словами, а не трансцендентными уравнениями?
ИИ работает с математическими функциями, которые формализуют зависимости между различными явлениями и влияющими на них факторами. Например, можно вспомнить «Алису в Стране чудес», которая «никогда не забывала — что если выпить слишком много из пузырька с надписью "яд", то почти наверняка, рано или поздно, почувствуешь недомогание». Основная задача ИИ — попытка понять значение той или иной функции.
Простой пример — давайте разделим множество собак и кошек. У нас есть набор животных, и у них различаются признаки: хвосты, шерсть, усы и т. д. И вот на основе этих признаков надо как-то распределить животных на две группы. Здесь можно использовать известные математические задачи, в частности поставленные Давидом Гильбертом, который писал, что функции разных переменных (в нашем случае: хвостов, усов и шерсти) могут быть представлены в виде комбинаций функций одной переменной, в которую каждый признак вносит свой вклад. Собственно, поэтому у меня и не было вау-эффекта от ChatGPT — я очень хорошо понимаю, как он работает.
Получается, человечество шло к созданию ИИ чуть ли не со времен Евклида?
Конечно.
Ту же задачу аппроксимации (приближения. — Прим. ред.) функции мы решаем еще в школе. Вспомните, когда мы изучали график и прикладывали линейку к нему, чтобы посмотреть, насколько он удаляется от осей X и Y. Прикладываешь 10 раз, и вот получается усредненное значение. Так что да, математика многих этих процессов известна давно, а сейчас у нас появились технические возможности и много разнообразных данных.
К вопросу о школе. Вы учились в легендарном физматлицее № 239, откуда вышли многие известные ученые-математики — например, Григорий Перельман и Станислав Смирнов, а также актриса Алиса Бруновна Фрейндлих. Каким вам запомнилось обучение?
Когда я учился, в лицей поступали с 8-го класса. Это как раз то время, когда подросток перестает ориентироваться на то, что говорят в семье, и начинает воспринимать новое от своего окружения. И здесь важно, в какую среду ты попал. В 239-м были очень талантливые и целеустремленные дети и учителя, которые умели заинтересовать. Помню, первая моя оценка была «1+» по физике. Мама даже пошла в школу, чтобы понять, что случилось. А ей говорят, что кол с плюсом — это хорошо. Значит, ее сын решил три задачи, а даже такое (на первых уроках. — Прим. ред.) получается не у всех. Это был важный урок: в 239-м главное — не оценки, а сам процесс обучения.
Ноль как «Черный Квадрат»
Вы уже в школе поняли, что хотите стать ученым? Мечтали стать Эйнштейном, когда вырастете?
Наука — это из семьи. Меня назвали в честь прадеда — гардемарина, военинженера 1-го ранга и организатора кафедры математики Ленинградского военно-морского инженерного училища. Мой дед — психиатр, возглавлял лабораторию и готовил первых космонавтов в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Мои родители преподавали математику в СПбГУ. И все же осознанное решение пришло не сразу. Сначала я, как и все, хотел быть космонавтом и футболистом. В школе увлекся программированием — свои первые $100 заработал, написав на паскале автопереводчик с турецкого на русский для AutoCAD. Уже в аспирантуре работал начальником IT-отдела в крупной компании, даже получил второе образование по менеджменту.
Получается, мы едва не потеряли математика Николая Кузнецова?
Можно и так сказать. Хотя науке я все равно всегда уделял много времени. Для меня это естественная составляющая жизни — познание через научную призму. Этот образ мышления был заложен с детства. Бесповоротным же выбор стал в 2018 году после смерти моего научного руководителя, декана матмеха Геннадия Леонова. После его кончины я понял, что если хочу сохранить созданную им кафедру прикладной кибернетики, то должен полностью сконцентрироваться на этом. Если прежде я занимался наукой потому, что это было интересно, то тогда у меня появилась ответственность за сохранение нашей научной школы.
А чем именно вы занимаетесь?
Математической теорией управления. Если конкретнее — управлением динамикой различных объектов. Например, колебания крыла самолета, движение турбины в ГЭС, система автоподстройки в сотовых телефонах и компьютерах, позволяющая принимать сигнал. Всё это динамика, которой мы должны управлять. А для этого необходимо строить и изучать математические модели.
То есть для математика поведение крыла самолета и работа чипов в телефоне по существу одно и то же?
В этом как раз сила и красота математики — это универсальный язык, который позволяет записывать и объяснять единообразно совершенно разные по своей природе явления. Математика — это искусство абстракции. Чем лучше ты выстраиваешь абстракции, тем компактнее и красивее потом получаются рассуждения и тем проще их проверить.
А вы могли бы привести пример красивой абстракции?
Знаменитая абстракция, появление которой многое перевернуло в математике, — ноль. Если задуматься, это очень нетривиальная вещь, что отсутствие чего-то — вас, меня, яблока, телефона — может выражаться одним понятием нуля. По силе, красоте и простоте ноль можно сравнить с известным «Черным квадратом» Малевича в искусстве!
Как сделать открытие мирового уровня в школьной лаборатории
Если посмотреть вашу биографию, то на вашем счету доказательство гипотезы Идена, решение проблем Игана и Гарднера. Мне, как и большинству людей, это почти ничего не говорит, но это ведь задачи, над которыми математики ломали головы десятилетиями. Каково это, сделать то, что не удавалось поколениям коллег?
Разумеется, это сложно забыть. К примеру, в 2009 году мы работали над теорией скрытых колебаний. Что это такое? В мире есть самозарождающиеся колебания. К примеру, в утробе матери ребенок сам не дышит, а когда появляется на свет, из неустойчивого стационарного состояния дыхательная система естественным образом переходит к устойчивому циклическому процессу — происходит самовозбуждение колебаний.
Если человек долго пробыл под водой и дыхание остановилось — то есть, выражаясь языком математики, человек находится в устойчивом стационарном состоянии, — то для перезапуска дыхания нужны внешние воздействия, к примеру массаж сердца. Возникающие в этом случае колебания называются скрытыми: они не видны без дополнительных воздействий. Всё это вроде бы очевидно, но для математического описания подобных процессов необходимы сложные вычисления.
И вот, в 2009 году мы собирались на конференцию в Италию, и мой научный руководитель попросил сделать слайд с примером из нашей теории скрытых колебаний. Он предложил взять как пример так называемую цепь Чуа — очень простую электрическую цепь, которую ученики собирают в школе на уроках физики: провод, конденсатор, катушка индуктивности. Я наугад взял начальные условия для работы этой цепи и увидел, что в ней могут происходить колебания, которые сам Леон Чуа (изобретатель этой цепи, американский инженер. — Прим. ред.) считал невозможными. Более того, я стал читать статьи об этой цепи (а их около 10 тысяч!), и ни в одной не было предположения, что скрытые колебания в ней случаются.
Тут-то вы и поняли, что находитесь в шаге от открытия?
Да, сразу же стал перепроверять данные, пытался убедиться, что я не ошибся. В итоге через полгода мы уже встретились с самим Леоном Чуа, человеком уровня нобелевского лауреата, если бы премия присуждалась за инженерные науки. Первым делом он спросил нас: «А можно ли увидеть эти колебания на практике?» Мы объяснили как, он тут же позвонил в свою лабораторию и попросил, чтобы его сотрудники спаяли необходимую цепь. Леон Чуа был потрясен, когда увидел результат. Такие моменты, конечно, запоминаются.
И не только вам: насколько я понял, эти работы до сих пор самые цитируемые ваши публикации?
Да, они привлекли большое внимание. Есть такая база данных Web of Science, каждый год она отбирает 0,1 % ученых в каждой из областей, которые получили наилучшие показатели цитируемости. Считается, что это примерно уровень нобелевских лауреатов. В этот список попадают порядка 6–7 тысяч ученых. Из России — около 10. От Петербурга несколько лет подряд были трое: я, мой научный руководитель Геннадий Леонов и еще один лауреат с Oboка.ru — психофармаколог Рауль Гайнетдинов, который разрабатывает новые лекарства от депрессии и других ментальных проблем. Такое признание позволило мне выступить с инициативой учреждения городской премии в области кибернетики и ИИ, которую теперь вручает каждый год губернатор, и эта награда носит имя Геннадия Леонова.
Психоз vs. метафизическое безумие
Вы занимались такой давней академической темой, как теория управления, а теперь пришли в искусственный интеллект. Как так вышло?
А это очень близкие темы, в искусственном интеллекте используются базовые законы из теории управления. По сути, ИИ — это смесь математики и технологий. Так что можно сказать, что я никуда не уходил. Вообще, ИИ мы занялись в 2020 году, когда появился федеральный проект в области искусственного интеллекта. Стало очевидно, что будущим специалистам в этой области необходимо профильное образование. Мы на кафедре прикладной кибернетики СПбГУ решили переделать наш бакалавриат — «Прикладная математика и информатика», — чтобы он охватывал также и ИИ. Та фундаментальная математическая база, которую мы даем, сделала программу очень успешной. Она стала самой востребованной в СПбГУ, даже популярнее юриспруденции (и самым успешным ИИ-бакалавриатом в городе).
Учитывая ваш бэкграунд, к вам, должно быть, приходят IT-компании, предлагая бросить вуз и заняться созданием нейросетей?
Такие предложения возникают, но я отказываюсь. Чтобы творить, нужна свобода, которую крупные компании, как правило, не могут предоставить в нужном объеме. Кроме того, я занимаюсь коллективной наукой. Есть области математики, которыми занимаются одиночки, вроде (доказавшего гипотезу Пуанкаре. — Прим. ред.) Григория Перельмана. В теории управления все работает иначе. Мне необходимы ученики, которых нужно выращивать внутри своей школы, их сложно найти на рынке.
Что вы исследуете прямо сейчас?
Последняя наша работа связана с фазовой синхронизацией.
Что это? Синхронизация звучит как то, что нам всем сейчас нужно!
Все просто — один голландский инженер некогда плавал на корабле и смотрел за поведением маятниковых часов. Он заметил, что, вне зависимости от стартового положения, маятники в конечном итоге начинают двигаться в противофазе, навстречу друг другу. Это называется взаимной синхронизацией.
Это прекрасно, но в технике — мобильных телефонах, системах спутниковой навигации — нам это не нужно. В этих случаях необходима очень точная подстройка одного колебания под другое. Как когда-то мы крутили ручку на радиоприемнике, чтобы точно поймать волну нужной станции. Ту же самую задачу надо выполнять и в микросхемах. Вот я с учениками и разрабатываю и изучаю математические модели для этого. Наши работы необходимы для импортозамещения, производства оборудования для ГЛОНАСС и 5G. Там есть и прикладные, и фундаментальные задачи, над которыми мы работаем. Также сейчас занимаемся некоторыми экономическими темами.
Расскажите про экономические — чего нам ждать от рубля?
Да, математическая теория хаоса важна и здесь. К примеру, нам надо управлять динамикой курса рубля. Когда она совсем непредсказуема, экономике приходится сложно. Делать это можно по-разному: допечатывать деньги, вводить налоги, выбрасывать валюту на рынок. И тут возникает ряд математических задач, по которым мы с нашей кафедрой опубликовали серию работ. Кстати, с использованием ИИ, который помогал искать в хаотическом поведении экономических моделей регулярные паттерны и эффективные инструменты управления ими.
А есть ли такие отрасли, которые вы еще не описывали с точки зрения математики, но хотели бы попробовать?
Да, конечно. В контексте ИИ было бы интересно математически описать работу живого человеческого мозга, по сути биологической нейросети. Ну и хотелось бы заняться моделированием того, как работает дыхательная система, в контексте все тех же скрытых колебаний. Помните пример про человека, которого вытащили из воды без дыхания и пытаются реанимировать с помощью внешних воздействий? Добиться скрытых колебаний? Но для этого всего нужны партнеры-медики.
Хотя одну такую работу я уже опубликовал. Мы вместе с моим дедом, доктором наук, который заведовал лабораторией в Звездном городке, как-то подготовили доклад «Медико-математические перспективы выхода из психоза Ивана Карамазова».
Психоз? Настаиваю на диагнозе «метафизическое безумие»!
Мой дед-психиатр исследовал творчество Достоевского. У Федора Михайловича в тексте есть раздвоение персонажа: с одной стороны, у него ментальные проблемы (в тексте статьи приводятся симптомы шизофрении у Карамазова. — Прим. ред.), с другой — тяга к логическим рассуждениям, а это уже математика. Мы обращались к вопросам восприятия, здорового и нездорового функционирования мозга. Эти выводы можно было формализовать, но нужна была большая выборка, тут все же работа лишь с одним персонажем.
Я думаю, что могла бы получиться очень интересная работа по связи математики и восприятия действительности. Известно, например, что за восприятие математики и музыки отвечает один и тот же отдел головного мозга, для занятия и тем и другим нужна фантазия и умение воспринимать абстракции и оперировать ими. Но важно, чтобы фантазия была контролируема. Это, кстати, надо учитывать, когда мы будем создавать ИИ, максимально похожий на мозг человека.
Текст: Константин Крылов
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Олег Ульянов
Свет: Василий Кабайлов, Владимир Сакунов (SKYPOINT)
Собака.ru благодарит за поддержку
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

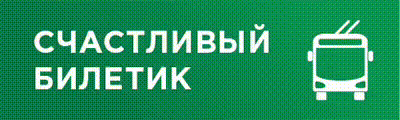
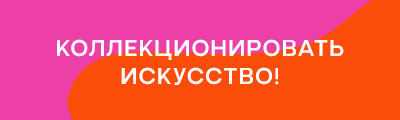

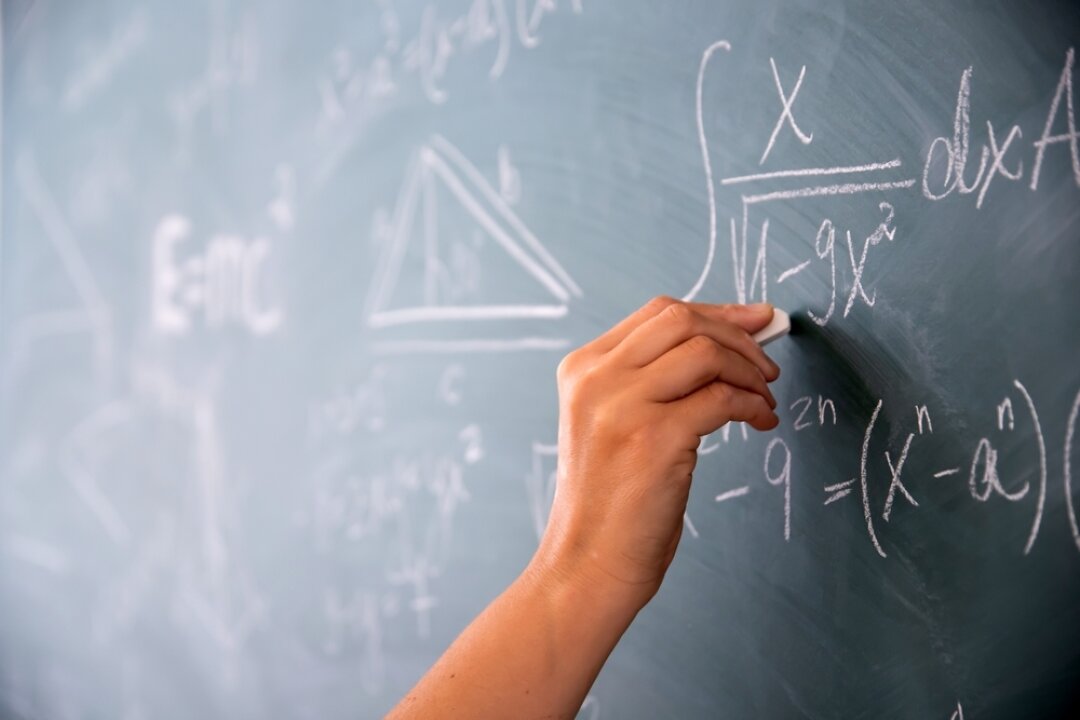


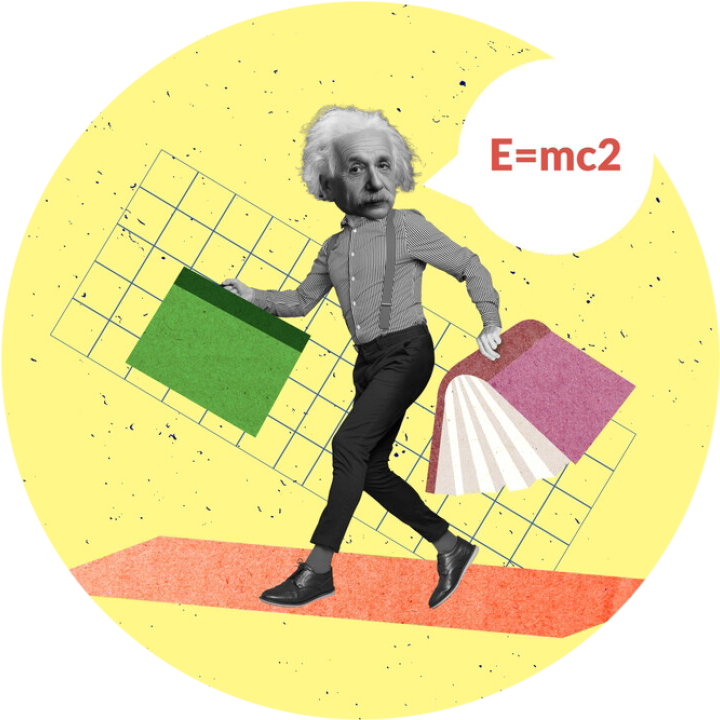
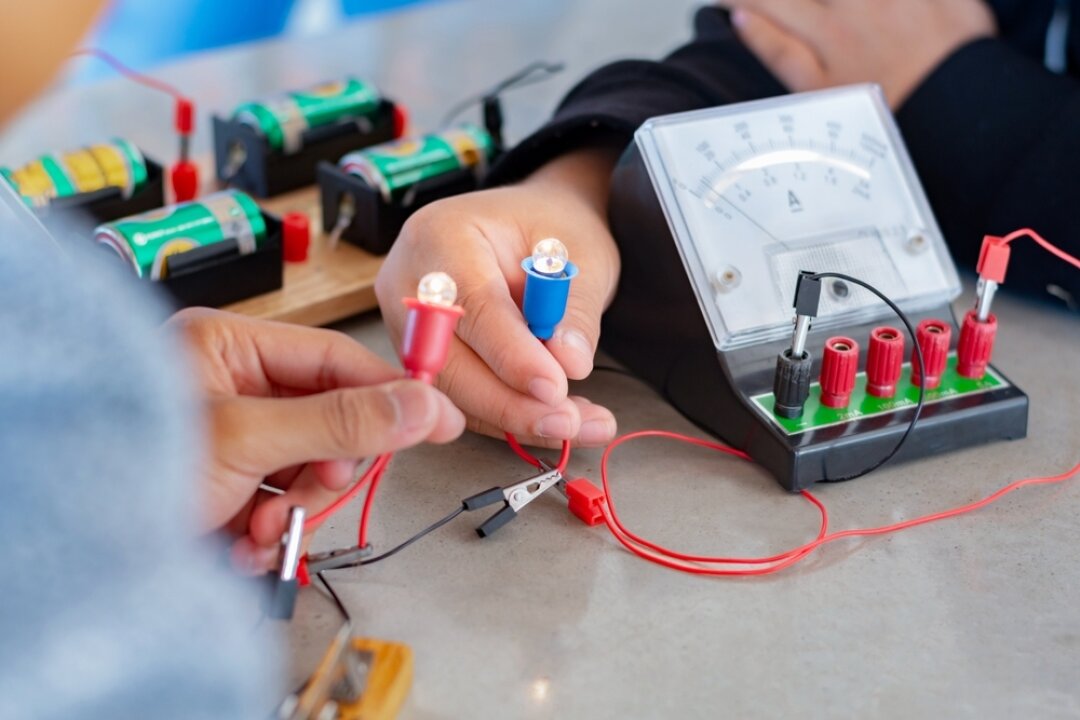


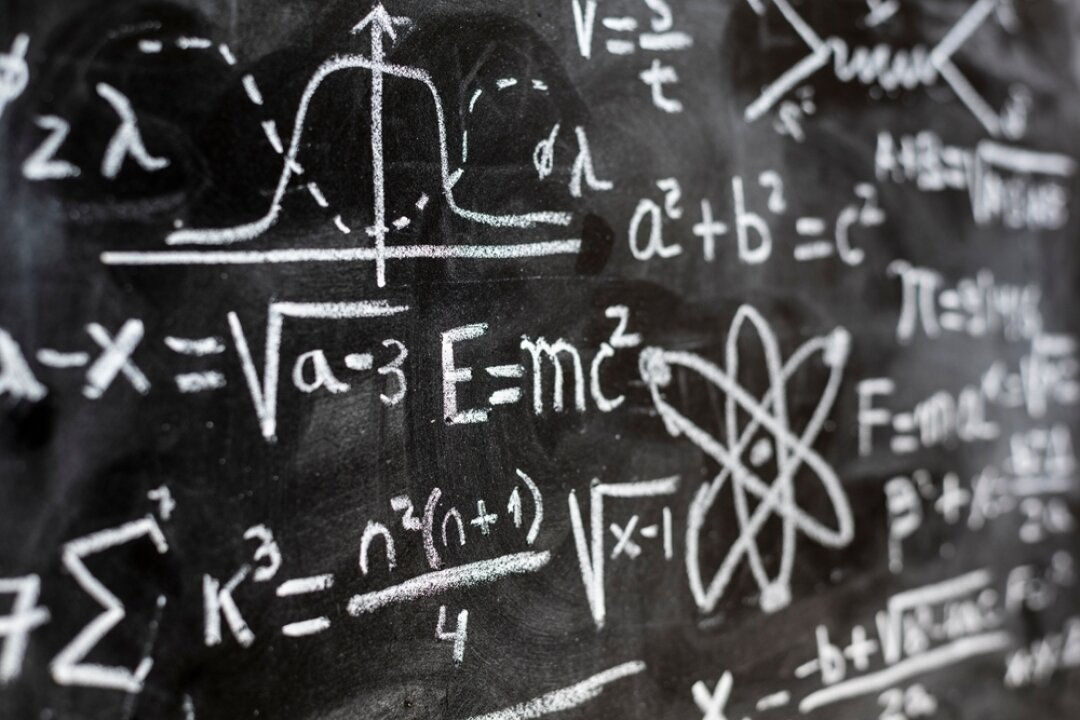
Комментарии (0)