СМИ сообщают, что 28 июня станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию. Однако точную дату власти пока не объявили. Долгое время архитекторы и активисты выступали за сохранение исторического вестибюля в виде «летающей тарелки», но, судя по всему, на его месте возведут двухэтажное современное здание. В КГИОП настаивают: постройка 1960-х годов не имеет ценности. Градозащитники считают, что первые павильоны Московско-Петроградской («синей») линии метро — это важное наследие эпохи освоения космоса, примеров которой с каждым годом все меньше. Собака.ru обсудила с экспертами, нужно ли сохранять советский модернизм 1960-х и как быть в условиях, когда метро требует все больше площадей для перевозки пассажиров.
Подходит к концу история модернистского вестибюля станции «Парк Победы». Уже в июне (предположительно 28 числа) одноэтажное здание уйдет на реконструкцию. На этом месте появится двухэтажное здание с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещают закончить к 2027 году.
Градозащитники дважды пытались защитить советский вестибюль от сноса. В первый раз — в 2024 году, второй — этой весной. Оба раза КГИОП формально включал здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН) — по закону это происходит, если кто-то просит признать постройку памятником, объясняют редакции Собака.ru в комитете.
Однако в итоге оба раза комитет по охране памятников отказался признавать вестибюль станции «Парк Победы» объектом культурного наследия. «У здания отсутствуют признаки памятника, оно не обладает достаточной архитектурной, градостроительной и исторической ценностью», — уточняют в КГИОП.
«Проект "повторного применения"»
«Парк Победы» открыли 29 апреля 1961 года — это одна из первых станций Московско-Петроградской («синей») линии Ленинградского метрополитена. Тогда от нее можно было доехать до «Технологического института».
«Парк Победы» — это первый в мире пример «горизонтального лифта», или станции закрытого типа, где платформа отделена от прибывающего поезда автоматическими дверьми. Павильон возвели по проекту архитекторов А.С. Гецкина и В.П. Шуваловой. «Подобных вестибюлей в Петербурге было всего четыре: “Фрунзенская”, “Электросила”, “Парк Победы”, “Горьковская”. Их ошибочно называют “типовыми”, но корректнее было бы назвать “повторного применения”», — обращает внимание автор телеграм-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов.
«Все павильоны отличались и одинаково эффективно составляли ансамбль с окружающей застройкой и местностью. Вестибюль "Горьковской" был утрачен первым в 2009-м году, уже снесен вестибюль "Фрунзенской". Летом 2025-го ожидаем закрытие "Парка Победы". Давно идут проработки метрополитеном реконструкции "Электросилы". В ближайшие пять лет город фактически лишится образцов метро архитектуры 1960-х — ничего подобного нет ни в одном городе бывшего СССР», — добавляет инженер, автор канала «Человек-метро» Дмитрий Графов.
Историк архитектуры Дмитрий Гусаров отмечает: павильон стал знаковым для горожан в силу изящного облика идеального для Московского парка Победы, изобилующего зеленью. «Архитекторы Гецкин и Шувалова задумали именно легкий округлый павильон с максимумом света, стекла и воздуха. В этом ключе ему вторит павильон читальни в Московском парке Победы. Дополнительной легкости и комфорта придает асимметричность павильона, вызванная включением в него объема газетного киоска. Плавно изогнутая линия козырька добавляет динамичности и экспрессии облику вестибюля», — говорит он.
Снести нельзя сохранить
В КГИОП отмечают: внешний облик постройки был искажен во время ремонтов и перестроек. «Полностью изменено решение фасадов. Существующая зона входов и выходов имеет дробную структуру и лишена сплошного остекления. Павильон даже в первоначальном своем виде представлял собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной "борьбы с излишествами" в архитектуре. Характер его объемно пространственного решения был продиктован исключительно соображениями экономии в отличие от типологически близких выдающихся образцов архитектуры модернизма, таких как наземный павильон станции метро "Красные ворота" в Москве (возведен по проекту архитектора Николая Ладовского в 1930-е годы, — Прим. Ред.) или железнодорожной станции Дубулты в Латвии», — объясняют представители комитета.
Помимо этого у подземного зала нет декоративно-художественного оформления, отсутствуют боковые посадочные платформы, уточняют в ведомстве. Исходя из этого, экспертная комиссия посчитала, что вестибюль не является объектом культурного наследия.
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов обращает внимание, что павильоны метро всегда критикуют за безликость, однако их оригинальный облик был утрачен и искажен. «Обсуждать низкую ценность в текущем виде то же самое, что сбить весь декор с Зимнего дворца, потом обшить его сайдингом и признать малоценной постройкой», — говорит он.
Историк архитектуры Ксения Малич считает: то, что вестибюль построен по проекту «повторного применения», не умаляет его ценности, а скорее наоборот. «Редкий пример модернизма, который не игнорирует исторический контекст города, не спорит с окружением, но встраивается в него легко, подыгрывает, не теряя при этом архитектурного достоинства», — заключает она.
При этом эксперт отмечает, что даже в искаженном виде вестибюль сохраняет утонченность. «Интерьер внутренней галереи изыскан: профилированные каменные дверные откосы, карниз из рельефного стекла, алюминиевые переплеты и тяги. Это первый в Советском Союзе пример станции без посадочных платформ: мы попадаем в поезд через раздвигающиеся электрические двери. Внимательнейшая качественная архитектура», — заключает Ксения Малич.
Похожее мнение в разговоре с редакцией Собака.ru озвучил историк архитектуры Дмитрий Гусаров. «Вестибюль имеет несомненно историческую ценность. Архитектура эпохи освоения космоса имеет свои особенности — это легкость, воздушность, обилие стекла и бетона и белого цвета. Сегодня эти здания повально сносят, из-за чего мы рискуем потерять целый пласт истории культуры и архитектуры. Ленинградской модернизм более изящен и элегантен, чем общемировой и даже общесоюзный. Он более продуман. Так как наш город не избалован рельефом, модернизм создавал новую "архитектуру земли": павильоны Ленэкспо, СКК, Дворец молодежи, ресторан "Олень"».
«Я думаю, что просто пришло время для рефлексии и фиксации исторического пласта в архитектуре. Причем не только в профессиональных кругах, а в первую очередь, среди городских жителей. Так будет происходить со всеми эпохами. Переосмысление приходит через какое-то время, когда этим попользовались, пожили и поняли, что к чему. Сейчас это модернизм, потом — постмодернизм, затем — архитектура девяностых и нулевых годов, а далее настоящее время. Наверное, это можно сравнить с модой. Здесь цикл смены “поколений” происходит быстрее, чем в архитектуре. Сегодня мы видим, как популярна мода девяностых и нулевых среди людей, которые родились позже», — рассуждает Дарья Бывших, руководитель архитектурного отдела «НовТехПроект», главный архитектор проектов бюро «Клаузура», гид и лектор «Петербург глазами инженера».
«Даже ремонт из лучших побуждений оборачивался потерями»
«К сожалению, здания советского модернизма как до-, так и послевоенного периода эксплуатировали небрежно, жестко», — сетует в беседе с Собака.ru историк архитектуры Ксения Малич.
По ее словам, «даже ремонт из лучших побуждений оборачивался потерями» тех или иных архитектурных элементов. В случае с модернизмом это особенно бьет по восприятию этих зданий. «В проектах у архитекторов не было права на ошибку: не скрыться за натиском декоративных деталей, не скомпенсировать промах узорочьем, — продолжает Малич. — В арсенале остаются лишь фундаментальные инструменты зодчего — ритм, композиционный баланс, согласованность массы и пустоты, точно подобранная текстура материала. Здесь важен каждый миллиметр, поэтому исчезновение даже небольшого фрагмента становится причиной обрушения всего пропорционального баланса. Небрежная замена облицовки ведет к потере диалога сопрягающихся текстур, нарушению ритма расшивки швов. Это критически меняет рисунок фасадов и стен. У советских архитекторов имели значение и буквы: каждая насечка согласована с общем строем памятника. Без всех этих деталей архитектура не только теряет историческую аутентичность, но и свою суть. Это даже не вопрос вкуса. Вы же не будете вставлять зубы из розового пластика и на пару миллиметров больше родных. К сожалению, когда специалисты указывают на эти обстоятельства, просят восстановить утраченные фрагменты, подобрать точные материалы, редко кто хочет выделять на реставрацию дополнительное время, силы и ресурсы или адаптировать к современности».
Кроме того, продолжает автор телеграм-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов, в обществе до сих пор нет «глобального осознания того, что [советский модернизм] — это интересный период советской архитектуры».
Главной проблемой сохранения примеров этого направления историк архитектуры Дмитрий Гусаров считает «запрос на монументализацию» от заказчиков. «Им кажется, чем более мрачное и больше увешано колоннами здание — тем оно более долговечно и защищено от критики "сверху", — продолжает он, — Им видится более представительным и защищенным здание в стиле крепости. А модернизм — легкий, изящный и воздушный, он о светлом будущем».
Впрочем, полагает Дарья Бывших, руководитель архитектурного отдела «НовТехПроект», постепенно ситуация меняется. Все больше людей понимают значимость архитектуры модернизма, в том числе такой «космической», как павильоны первой очереди второй линии Ленинградского метрополитена. «Издаются книги, карты, путеводители по модернистским зданиям, проводятся исследования, экскурсии и лекции. Много сувенирной продукции, в том числе и просто предметы этой эпохи: например, стеклоблок, который сейчас популярен, как светильник в интерьере», — заключает она.
«Определенный компромисс здесь еще возможен»
Однако, как бы ни была ценна архитектура старых вестибюлей — у таких зданий есть самая важная задача — комфортно обеспечивать пассажирам возможность пользоваться подземкой. Так, признавая ценность «Парка Победы» и «Фрунзенской» Михаил Крайнов говорит, что «построены они во времена тотальной экономии и [сегодня] несколько тесны для пассажиров».
«Инфраструктурные механизмы, инфраструктурные элементы, которые просто по типологии и по своей идее должны расти вместе с городом, — развивает эту мысль архитектор-реставратор, руководитель архитектурной мастерской №2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко. — Поэтому мы, даже если бы эта станция обладала большей уникальностью, была построена не по проекту "повторного применения", рассматривать вопрос ее реконструкции возможно. Несмотря на историческую ценность, эта станция используется, функционирует, и она должна продолжать улучшать городскую инфраструктуру, даже если требуются настолько радикальные изменения».
Архитектор-реставратор руководитель АРМ№2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»:
«Я бы порекомендовала использовать некий элемент архитектурно-художественного оформления ["Парка Победы"] в будущем проекте, возможно, сохранить элементы интерьерного декора и сберечь преемственность между предыдущей станцией и новой».
Однако далеко не все собеседники редакции согласны, что советские вестибюли устарели. «Станции "Парк Победы" и "Электросила", не расположены в местах массовой застройки и не лидируют по пассажиропотоку, — говорит исследователь метро Дмитрий Графов. — Имеющиеся трехленточные эскалаторы справляются с потоком. Нет проблем и с пропуском пассажиров через компактные вестибюли (пиковые эпизодические нагрузки из-за мероприятий в СКК и на новой арене не берем во внимание)».
Сходным образом комментирует ситуацию и Георгий Фролов из «STEP. Транспортные решения». Он настаивает: вестибюли стали тесны в первую очередь не для пассажиров, а для «заметно "распухших" с 1960-х годов эксплуатирующих служб метрополитена». «Потребность в комфортных условиях труда для работников метро тоже важна, но очевидно, что снос старого здания и строительство нового на том же месте — наиболее простой для метрополитена путь увеличения служебных площадей. Однако, точно ли это аргумент, чтобы заменить аутентичный вестибюль новым зданием?», — продолжает он.
По его словам, пропускной способности станций до сих пор хватало, а в будущем, после строительства участка Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро из Красносельского района «нагрузка на "Электросилу" и "Фрунзенскую" сократится».
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
«Определенный компромисс еще возможен. Как минимум один из вестибюлей, например, "Электросилу" можно сохранить. Для пассажиров всех трех станций метро более ценными были бы другие улучшения: обустройство наземных переходов возле станций, чтобы не приходилось дважды спускаться и подниматься на пути к поездам; улучшение работы наземного транспорта в коридоре Московского проспекта, чтобы дать альтернативу метро на коротких дистанциях; развитие тактового движения поездов на Витебском и Балтийском направлениях для разгрузки второй линии в целом».
Текст: Мария Агафонова, Константин Крылов
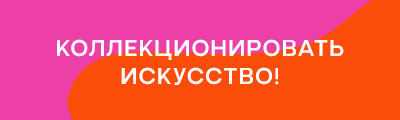




Комментарии (0)