Узнали у соосновательницы выставочного пространства, куратора и художницы Лизы Цикаришвили, как возникла идея арт-проекта, при чем тут Япония и альтер эго еще одного создателя Sobo Александра Цикаришвили, а также как показывать современное искусство без снобизма и дружелюбно к зрителям.
Про создание проекта
Sobo — не первое пространство, которое мы делаем вместе с Сашей [Цикаришвили]. У нас всегда было какое-то место, чтобы работать независимо и делать то, что нам интересно. Так, мы очень долго вели галерею Kunsthalle nummer sieben, потом проект-ярмарку YABA. Когда Kunsthalle закрылась в 2022 году, мы взяли паузу: не было сил что-то создавать, да и казалось, что это уже невозможно. Тогда в Петербурге вообще закрылось множество «самоорганизаций». Стабильно из инди-проектов продолжили работать только «Люда» художника и куратора Петра Белого (регулярно меняющая адреса галерея, в данный момент находится на Пушкинской, 10. — Прим. ред.) и НеНеМу Александра Дашевского. Сейчас независимые истории понемногу вновь стали возникать. Например, пространство «Поляна» или «Салон красоты» Ромы Круглова (кураторский выставочный проект. — Прим. ред.). Наверное, это свидетельство, что процесс этот органический.
Уже давно существующие классические галереи работают в определенной системе. У них есть энное (не такое большое) количество авторов, они делают периодически персональные выставки — и все. А чтобы появлялся новый дискурс, свежее смысловое наполнение в искусстве, нужно нечто большее. Хотя бы групповые проекты, в которых был бы виден диалог между художниками. Когда они практически исчезли, мы поняли, что надо открывать под них площадку.
Kunsthalle существовал в некоммерческом формате с абсолютно нулевым бюджетом, сейчас такое невозможно, поэтому мы сделали пространство с перспективой самоокупаемости. Помещение искали долго — посмотрели почти весь центр. Везде была огромная арендная плата, а площадки при этом полуподвальные или тесные. В итоге нашли пространство на Моховой — очень необычное для цокольного этажа старинного дома. Для нас это новый формат: мы привыкли к андеграундным местам, а здесь больше воздуха, высокие потолки, и можно сделать архитектурную застройку.
Про отличие от других галерей
В Sobo мы отчасти продолжаем линию Kunsthalle. Эта ориентация на диалог, сотворчество, эксперименты в коллаборациях, более свободные формы. Потому что классические коммерческие галереи всегда сознательно или нет требуют от художника повторения собственного бренда. Это может быть не намеренно, но так они купируют возможности для экспериментов. Мы же, напротив, стараемся их поощрять.
Как и раньше, мы стараемся открывать новые имена, давая возможность молодым художникам реализоваться. Так, сейчас у нас проходит первый большой персональный проект Юлии Мортис. Мы в нее очень верим и поддерживаем. Далее у нас будет проект потрясающего молодого автора из Воронежа, художника Паши Варнавского.
При этом, как уже говорила, мы нацелены на групповые проекты, на исследование в рамках каждой сборки темы, которая остро стоит для художников и для нас. Мы не тешим себя надеждой, что удастся петь в унисон и говорить хором: совместная работа — это всегда разнонаправленное движение и заряды, так или иначе конфликтное поле. Даже внутри одного художника творчество, в общем-то, конфликтная территория. Когда их возникает несколько, это заряженный на взрыв механизм, но для нас всегда интересен диалог. Нам кажется, что именно в нем возникает главный смысл. Когда твои же мысли тебе возвращает другой, они для тебя обретают особое значение. Поэтому для нас диалог неотделим от самого творческого процесса.
Про бабушку в названии галерии и не только
Название Sobo переводится с японского как бабушка. Это альтер эго Саши [Цикаришвили] и наш тотемный символ. С одной стороны, это что-то семейное, личное, частная история. С другой — общее, хтоническое и народное. Баба-яга — персонаж, который соединяет два мира: живых и мертвых. Это священный, ритуальный проводник, который возникает у Саши в перформансах. И здесь она не просто бабушка, а именно японская. В каком-то смысле это отсылка к идеям тропикализма, которые у нас присутствуют в последних выставочных проектах и «Цветах Джонджоли» (арт-объединение. — Прим. ред.).
Немного странный межкультурный синкретизм: в Грузии делают соленья, что-то вроде квашеной капусты, из цветов дерева джонджоли, которое растет только в одном регионе. Больше нигде в мире их нет. Получается феномен, который есть практически во всех культурах — ферментированная еда, то, что должно долго храниться, консервировать витамины. И одновременно нечто очень национальное, отсылающее к местной культуре. То же самое в тропикализме. Идея парадоксальная: чтобы выявить локальное и национальное, нужно не отгораживаться от внешних влияний, а вобрать в себя черты из разных культур. Японская бабушка становится символом такого совмещения местного и глобального, которое позволяет нам понимать друг друга на межкультурном уровне, но при этом не терять аутентичность и специфику.
А еще есть «дачная бабушка», которая на глазах исчезает, потому что деревенский феномен разрушился. Места, где мы проводили детство, уходят в прошлое вместе с нашими старшими родственниками. Здесь мы тоже ищем корни. Плюс существует локальная, северная идентичность. Для меня она очень важна, так как семья моего деда из Ленинградской области: достаточно дикой деревни. Они работали на этой земле еще с дореволюционных времен. Это ижорские корни, традиция, связанная с лесом и рыбалкой.
Про Японию
Название взято из японского языка еще и потому, что нас в проекте вдохновляет минимализм и философия буто. Здесь есть некое опять же тропикалическое сочетание японской графичности, начертательности, каллиграфии, знака с его мутациями в послевоенном искусстве с буто. Того, что мы называем японским неодадаизмом, буто — это же дадаистская практика. И она про тропикалии в том смысле, что, с одной стороны, базируется на абсолютно коренных практиках, но при этом одновременно и в духе западного неоавангарда. Это тоже такая смесь и болезненная реакция на послевоенное и военное время в Японии. Жуткое переживание вылилось в новый язык, который формально не очень минималистичный, но минималистичен в плане поиска очищенного знака в момент временного коллапса. В этом смысле мы отсылаем к японскому минимализму.
Про взаимодействие со зрителем
Когда мы открывали Sobo, то обсуждали, что хотелось бы вернуть смыслы, дискурсивные обсуждения, делать параллельную программную к выставкам. Поэтому мы позвали как соосновательницу Дашу Болдыреву (экс-глава Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина. — Прим. ред.), у которой очень большой опыт работы с образовательным проектами. Мы с ней стараемся к каждой выставке делать интересные события, которые по-новому бы раскрыли ее тему.
Стартовали мы с проекта, связанного с текстом в кино, поэтому у нас было очень много про фильмы: мы смотрели и обсуждали Шпаликова, Луцика и Саморядова. Выставка Юлии Мортис во многом про субкультуру, но тесно связан с музыкой, мы это, конечно, учтем в публичной программе. Так, Валя Луценко (танцхудожница. — Прим. ред.) будет делать специальный перформанс вместе с Юлей про перерождение и магическое переодевание. Еще один перформарнс с картарми таро также покажет Лера Лернер (художница, куратор, основательница «Воображаемого музея перемещенных лиц». — Прим. ред.).
Мне кажется, у нас очень френдли пространство для просмотра современного искусства. Плюс у нас всегда можно задавать вопросы, обсуждать, что здесь происходит. Мы открытое и дружелюбное к зрителю пространство.

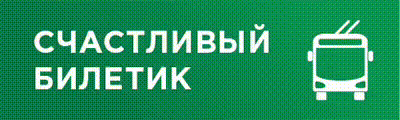
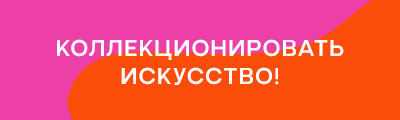





Комментарии (0)