Режиссер Елена Павлова — постановщица саундрамы «Чайка» и дважды номинантка «Золотой маски» — выбрала для постановки на Новой сцене Александринского театра (ближайшие показы — 22 октября, 11 ноября и 10 декабря!) повесть Юрия Германа и основанный на ней фильм Алексея Германа-старшего. Театровед Екатерина Рыбас рассказывает, как устроен спектакль о невыносимом одиночестве и разрушении связей (и почему главные роли в нем отданы не актерам, включая блестящего Ивана Труса, а музыке!).
Этот спектакль ждали. Не только потому что в главной роли был заявлен премьер Александринки, любимец публики Иван Трус, недавно блистательно сыгравший Обломова в версии Андрея Прикотенко. Интриговало название, приковавшее к себе внимание и театралов, и ценителей кинематографа. В основу спектакля легли повесть Юрия Германа «Лапшин» и фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». В выборе названия сразу послышался вызов: природа театра Елены Павловой — небытовая, нереалистическая, в отличие от творчества Германов — как будто заранее вступала в конфликт с материалом.
«Мой друг Лапшин» — второй спектакль Павловой на Новой сцене Александринского театра. Первой была саундрама «Чайка» по мотивам чеховской пьесы. А начинала она свое восхождение на Александринский Олимп с проекта «7 ярус», став победительницей конкурса для негосударственных театров и коллективов. Тогда в камерном пространстве над исторической сценой Павлова поставила экспериментально-музыкальные «Вишневый сад» и «Легкое дыхание». Но еще раньше была режиссерская номинация на «Золотую маску» дипломной постановки оперы Александра Маноцкова «Снегурочка». В творчестве Маноцкова — одного из лидеров новой музыки, соавтора Андрея Могучего и сочинителя перформансов — как раз и следует искать истоки «аудиальных» и «саундраматических» постановок Павловой.
«В моих спектаклях артисты преимущественно молчат», — этим программным заявлением она встречает посетителей своего сайта. Под «молчанием» имеется в виду, что артисты не произносят текст в привычном для нас понимании. В «Чайке», например, персонажи отнюдь не молчат, а все время поют, кто во что горазд — от арии Кавародосси из «Тоски» до «Зеленоглазого такси». В «Лапшине» принцип молчания возведен в степень: вместо привычных диалогов тут обрывки фраз и реплик. Текст так разрежен, что каждое слово звучит как символ.
Сегодня в театре из спектакля в спектакль переходит прием «воспоминаний» как способ непрямого осмысления действительности. Режиссеры обращаются к советской классике, в которой ищут ответы и утешение. Елена Павлова называет своего «Лапшина» «спектаклем-припоминанием». В нем отсутствует нарратив. Сюжетная основа угадывается, но и книга, и фильм здесь становятся поводом для ассоциативного музыкального сочинения «по мотивам».
Ленинградский писатель Юрий Герман всю жизнь воспевал в прозе людей двух профессий: милиционеров и врачей. Вероятно, это был его ответ соцреализму: если уж героизировать людей труда, то надо выбирать не председателей колхозов, а тех, кто либо ежедневно рискует собственной жизнью, либо спасает чужие. Повесть «Лапшин» написана Германом в 1938 году о современниках. Как известно, у главного героя был реальный прототип из числа друзей литератора — начальник Ленинградского уголовного розыска Иван Бодунов. В тексте Германа неожиданно слышится что-то хемингуэевское: мужественный герой-стоик справляется с жизнью и трагической невозможностью любви. Содержание уходит в подтекст. Ничто не проговорено, но как бы возникает между строк — как поэтическая дымка, настроение. Атмосфера времени и человеческого бытия есть и в фильме Алексея Германа, персонаж которого Лапшин «будто материализован из самого воздуха трагической обреченности: где-то на пересечении максимального вживания в самое “нутро” эпохи и нашего последующего знания о ней» (цитируя Любовь Аркус).
Алексей Герман вглядывался в 1930-е из 1984 года. Павлова смотрит в них из 2025-го. Ей не важна тема «дела, которому ты служишь» (так называется трилогия о талантливом враче, принципиальная для обоих Германов!). Сегодня это и правда звучит как-то... несовременно. Мы, 30-40-летние, предпочитаем думать, что есть дело, созданное для нас, а не наоборот. Мы озабочены поиском себя и больше не привязаны к месту. Легко меняем профессии, должности, города, не обременяя себя чувством долга. В этом наш поколенческий инфантилизм.
Павлова схватывает настроение, «воздух трагической обреченности», усиливая эффект через образы-знаки. В ее спектакле обезумевшие электронные часы-табло на стене застревают на роковых цифрах 19:37, вновь и вновь отсчитывая одни и те же секунды. Тут ничего не говорится впрямую, но возникает как-то само собой: все эти прекрасные и несчастные люди — палачи и жертвы своей эпохи, часть нашего неотменимого знания о ней. Не секрет, что в 1930-е все милиционеры были чекистами. Хотя в повести и фильме речь идет о борьбе с реальными, а не вымышленными врагами — бандой грабителей-убийц. У Павловой эти подробности отброшены — как неработающие на атмосферу. Зато для нее важна символика цифр, рождающая ассоциации. И это наше общее «последующее знание» — принципиально для режиссера. Поэтому ответ на вопрос, что все-таки произошло с Ханиным (Иван Ефремов), крики которого внезапно раздаются за сценой, в спектакле очевиден.
Сближение с героями Германа происходит через музыку как эмоционально-содержательную часть образа. Но если в «Чайке» подобный прием дает драматический эффект от наложения чеховского произведения на подтекст, выраженный в песнях, то в «Лапшине» театр как будто утрачивает свои родовые черты, сам становится частью музыки — и в этом основная проблема спектакля. В партитуре Павловой главные роли отданы не актерам, а пространству и звуку: на сцене присутствует квартет музыкантов, а лирическим голосом спектакля безошибочно выбрана труба (композитор Олег Гудачев). На увиденном мной показе соло на ней потрясающе исполнил Александр Щербаков. Фраза Адашовой (Олеся Соколова) «в этом городе на каждого человека по оркестру» реализуется буквально: у всех персонажей есть своя лирическая тема, озвученная трубой, своя мелодия, сквозь которую «просвечивает» образ.
Целое тут собирается из множества разнородных частей, и задача драматического артиста — играть некое эмоциональное состояние, быть нотой определенной высоты, мотивом в общем звучании. Схожий принцип использует новая музыка, где ею может стать все: от шума и скрипа до движений дирижера в пространстве. Возникает структура, подчиняющаяся жесткому внутреннему ритму.
Правила игры заданы сразу, и каждый персонаж ведет свою заранее определенную партию. Лапшин любит Адашову, Адашова — Ханина, а Ханин — свою умершую жену. И с этим ничего не поделаешь. Свои «пять пудов любви», словно заимствованные из чеховской «Чайки», герои вносят на сцену как неодолимую, невозможную тяжесть. Тут ничто не может закончиться счастливо, тут грусть-тоска и вечные 19:37 на часах. Замкнутость сценического пространства, в котором герои двигаются по кругу, усиливает ощущение повтора, возвращения к началу. Павлова — певец распада и разложения — создает спектакль о разрушении всех связей и невыносимом одиночестве как знаке всеобщей беды.
«Лапшин» идет в Черном зале, лишенном закулисья. В действии участвуют все двери и внутренние переходы-коридоры, в том числе выход на зрительскую лестницу. Поэтому значительная часть спектакля происходит вне нашего поля зрения или в ситуации ограниченной видимости (за это отвечает художник-постановщик Светлана Тужикова). Слышны только голоса артистов, двигающихся по выстроенным траекториям в режиме притяжения-отталкивания, как шары в бильярде. Режиссер использует кинематографический прием длинного кадра: герои много ходят, часто молчат и долго смотрят друг на друга, оправдывая звучащие в адрес Павловой упреки в пренебрежении театральными законами.
Замечательные актеры Александринского театра — сплошь премьеры! — существуют в этом материале как перформеры, подчиняющиеся воле невидимого демиурга. Их профессиональный и личностный потенциал мало востребован режиссером. А жаль. Потому что законы театра берут свое: через полчаса становится скучно от монотонных хождений по сцене и многозначительного молчания. Лапшин-Иван Трус большую часть сценического времени находится в состоянии выключенности из происходящего. Лучшие моменты спектакля — когда артисту позволены короткие мгновения любви, выраженной глазами. Всю постановку он несет в себе невыговоренную драму, безответное чувство к актрисе Адашовой-Олесе Соколовой. Как он на нее смотрит! В этом взгляде сыграно все: любовь и обреченность, надежда и тоска, внезапно нахлынувшая, волной затапливающая нежность, и готовность через секунду вновь высохнуть и очерстветь душой.
Остальным героям тоже дан краткий миг эмоционального выхода из вынужденного оцепенения. Раскинет руки — «распластанные крылья» — Окошкин-Валентин Захаров и отчеканит: «Я опустился, я разложился, я живой мертвец», звучащее тут горьким принятием постылой жизни, свидетельством выхолощенности смыслов и идей. «Больше ничего не будет», — безнадежно бросит Ханин-Иван Ефремов после неудачного самоубийства, встрепенется, как большая нахохлившаяся птица, и вытанцует, вытопчет накопившееся невысказанное отчаяние. Сядет под настольную лампу вечно озабоченный следователь-начальник Сергей Мардарь с папочкой следственного дела в руках — и закричит страшно: «Не виноват я!» Ради таких моментов стоит смотреть этот спектакль. И тогда вдруг возникнет из небытия его тихая мелодия, осязаемо зазвучит его сегодняшняя трагическая тональность.
А впрочем, «это просто год такой был».
Текст: Екатерина Рыбас
18+, о спектакле также читайте здесь.

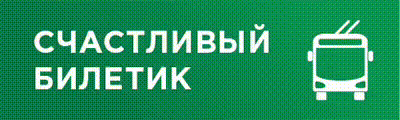
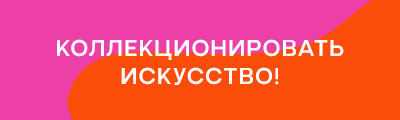





Комментарии (0)